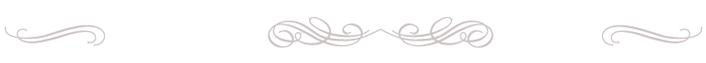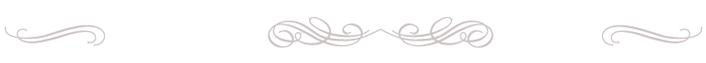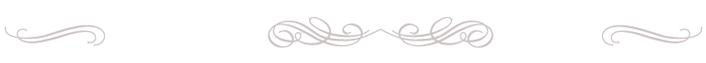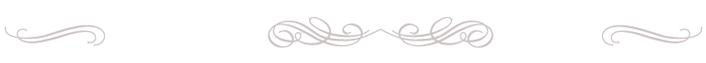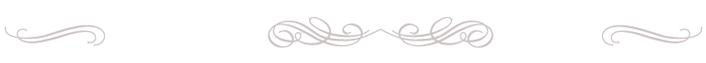"...Первая выставка товарищества открылась в Петербурге весной 1871 года. Картин и рисунков было представлено на ней по нынешним понятиям немного – всего сорок шесть. Из Петербурга выставка отправилась в Москву, затем в Киев и Харьков и повсюду собирала тысячи посетителей.
Успех был несомненный. Люди подолгу стояли у полотен Перова. Вот охотники, расположившиеся на привале. Выпили, закусили, и теперь старый барин рассказывает охотничьи небылицы, а двое слушают: молодой – с наивным доверием, а прилегший на землю мужичонка-егерь – с добродушным лукавством: ври, мол, барин, да знай меру...
А вот другая бесхитростная и полная гоголевского юмора сценка: старик рыболов закинул удочку и теперь весь, до кончиков пальцев, насторожен одной мыслью: клюнет, не клюнет?
Глубокое впечатление производил на зрителей большой холст Николая Николаевича Ге «Петр Первый допрашивает царевича Алексея в Петергофе». Петр сидит, сжав поручень кресла, в отделанном на голландский манер сумрачном зале дворца «Монплезир», у крытого тяжелой тканой скатертью стола и глядит на сына, долговязого и нескладного, высоколобого и бледного, с узким подбородком, потупленными глазами и безвольно повисшей кистью руки.
Трагическая страница прошлого была рассказана в картине по-человечески просто, без показного драматизма и эффектных жестов. Но как много крылось за этой минутой тяжкого молчания, последовавшей, быть может, вслед за вспышкой неудержимого петровского гнева, за ударом по столу могучего кулака, от которого полетел на пол листок, исписанный перечнем предательств сына, ставшего поперек дороги отцу и родине.
Веление сердца и чувство долга, предательство и верность, сила духа и шаткое безволие – двое на бело-черном в крупную клетку полу, две фигуры на шахматной доске истории...
Среди холстов, привлекавших внимание посетителей первой выставки передвижников (так стали вскоре называть участников нового товарищества), среди картин, будивших мысли печальные или радостные, вызывавших улыбку, а иногда и шумные споры, нравившихся очень или не нравившихся вовсе, была одна особенная, у которой с первого дня люди останавливались в молчании и уходили в глубокой задумчивости.
Что-то было в ней, соединявшее и печаль и радость, и улыбку и раздумье, – что-то такое, чего не выскажешь словами, но что так ясно почувствуешь вдруг в первый день весны, когда еще не стаял зернистый слежавшийся снег и деревья зябнут в первых разливах, и слышно уже, как звенит капель, и вдруг чистой синью засинеет промоина в студеном небе, и луч весеннего солнца тронет нагие ветви берез.
Не приходилось ли вам испытать в такие минуты пронизывающее до боли чувство слитности со всем сущим – и с уходящей зимой, и с этими заждавшимися тепла ветвями, с весенним звоном капель, коричнево-сизыми в снеговых белых пятнах далями и дымком, домовито поднимающимся над крышей? Такое чувство я испытываю всегда, глядя на картину Саврасова «Грачи прилетели». Я бы назвал это чувством родины.
На окраине городка, где я рос, не было, кажется, точно таких березок и точно такой церквушки, виднеющейся между искривленными стволами. Но я готов поручиться, что не раз видел и пережил все это, что именно в этом озерце талой воды запускал, хлюпая по льдистой каше, свою первую лодчонку, выструганную из пахучего куска сосновой коры.
Да, это мое, пусть непышное, неказистое, но родное: и потемневший снег, и желтоватое облачко в небе, и обласканные солнцем замшелые бревна забора, и гомон вьющих гнезда грачей... Всеволод Михайлович Гаршин, писатель большого и чуткого сердца, друг художников, однажды сказал: «Первое, что думает каждый прочитавший или увидевший высокое создание искусства: как это похоже, как это верно, как это знакомо, и тем не менее я в первый раз увидел это, сознал это!» Эти слова кажутся сказанными о саврасовской картине. Она словно раскрывала глаза людям. Она задевала у каждого свою струну, поднимая со дна души самые светлые чувства.
Грачи прилетели... Наступала весна новой русской живописи..."